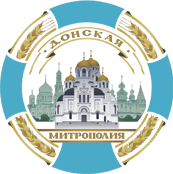Тема покаяния в произведениях Н.С. Лескова
Одним из талантливейших русских писателей ХIX века является Николай Семенович Лесков (1831- 1895 гг.). Не может не удивлять и жанровое разнообразие произведений писателя: злободневные рассказы, исторические хроники, сатирические обозрения, повести, рассказы, сказы, притчи, апокрифы, легенды, фельетоны, памфлеты, очерки, анекдоты и многое другое. Однако, должное признание критиков своего времени писатель не получил.
Неприятие Лескова в начале его творческого пути было обусловлено политическими взглядами писателя. Шестидесятые годы XIX столетия были периодом больших государственных преобразований в России. Это было время экономических и политических реформ. Отмена крепостного права не удовлетворяла запросов на коренные изменения в государстве либеральной части российской интеллигенции. Быть недовольным существующим режимом означало иметь передовые взгляды. Такое положение дел в среде образованных людей определяло соответствующее отношение к каждому со стороны большинства. Это имело полное отношение к литературной среде. Иметь консервативные взгляды означало не просто быть политически отсталым, но и непростительно дерзким. Расхождение с общей конвой журналистского антиправительственного настроения, бескомпромиссность и смелость Лескова идти в разрез общего направления вызывали гнев в писательской среде.
О тенденциозности в журналистике этого периода говорил Великий князь Александр Михайлович в своей книге воспоминаний: «Личные качества человека не ставились ни во что, если он устно или печатно не выражал своей враждебности существующему строю. Об ученом или же писателе, артисте или же музыканте, художнике или инженере судили не по их даровитости, а по степени радикальных убеждений. Чтобы не идти далеко за примерами, достаточно сослаться на философа В.В. Розанова, публициста М.О. Меньшикова и романиста Н.С. Лескова… Все трое подверглись беспощадному гонению со стороны наиболее влиятельных газет и издательств. Рукописи Лескова возвращались ему непрочитанными, над его именем смеялись самые ничтожные из газетных репортеров, а несколько его замечательных романов, изданных на его же собственный счет, подверглись бойкоту со стороны предубежденной части нашего общества. Немцы и датчане, под предводительством Георга Брандеса, были первые, которые открыли Лескова и провозгласили его выше Достоевского» [3, с. 163 — 164].
О причинах несовместимости писателя со всеми политическими партиями и движениями того времени пишет П.С. Коган: «Его эпоха делила людей на радикалов и реакционеров. Он делил их на нравственных и безнравственных. Его время было безрелигиозно, время поклонения естествознанию. Он был выразителем религиозного мышления» [4, с.9]. Очевидно, что свои политические предпочтения писатель не мог отделить от своей религиозной позиции. Это было вопросом его совести. Глубокая религиозность писателя проявляется как в его многочисленных произведениях, так и в его личных высказываниях, сохранившихся в переписке с друзьями и в свидетельствах современников. Праведникам посвящен одноименный цикл его произведений. «Его герои — Божьи люди, потому что по духу и своему умственному кругозору, Лесков был писателем русской народности, с ее тонким, природным, почти первобытным чутьем в вопросах настоящего человеческого величия <…>» [5, с.92].
О покаявшихся грешниках, гордости и влиянии святых отцов на творчество Н.С. Лескова
Выделяя тему покаяния в произведениях Н.С. Лескова, необходимо отметить, что писатель, помимо своей религиозности, привитой ему с детства, скрупулезно развивал свои религиозные познания, изучая святоотеческую литературу. И тема покаяния проходит у него красной строкой. Примером может служить интересный литературный источник в Российском государственном архиве литературы и искусства (Ф. 275. Оп. 1. Ед. хр. 108). Это записная книжка с выписками из Прологов, которая по большей части наполнена «разнообразными примерами покаяния, искупления грехов, внезапного перерождения грешника, деятельной любви, плодов послушания…» [6, с.401]. При этом владелец записной книжки Н.С. Лесков выделил два вида таких покаявшихся грешников: а) Грехопадение и покаяние прельщенных «блудным бесом» священнослужителей, анахоретов и мирян, и б) Грехопадение и покаяние «забывших Бога» разбойников [6, с.407-410]. Этот факт свидетельствует о более чем серьезном подходе писателя к данной тематике.
Преподобный Марк Подвижник говорит нам о совершении дела покаяния посредством трех добродетелей: очищения помыслов, непрестанной молитвы и терпения встречающихся скорбей [7, с.176]. Непрестанная молитва подразумевает под собою не что иное, как Иисусову молитву. Неизвестно, изучал ли Лесков творения этого святого, или пользовался другими источниками, но ему, безусловно, было известно это внутреннее делание христианина — непрестанная молитва.
В конце XIX века приобрела популярность книга неизвестного автора «Откровенные рассказы странника духовному отцу своему». Как известно, главная мысль автора книги состоит в необходимости внутреннего делания христианина — Иисусовой молитве, непрестанном призывании имени Божиего. Автор этого произведения не установлен, но в числе предполагаемых есть и фамилия писателя Лескова, хотя документального подтверждения этому нет [8, с.90]. В любом случае, само это произведение не могло быть неизвестным для писателя в силу своей всеобщей популярности в России в тот период времени и заинтересованного отношения Лескова к данной проблематике.
Это отразилось и в его произведении «Соборяне», главный герой которого протоиерей Савелий Туберозов учит дьякона Ахиллу, усомнившегося после поездки в Питербург в существовании Бога, молитве, составленной по примеру Иисусовой: «Читай: „Боже, очисти мя грешного и помилуй мя“, <…> «Боже! очисти мя грешного и помилуй мя», <…> вторил голос протопопа другим прошением: «Боже, не вниди в суд с рабом твоим». Проповедник и кающийся молились вместе» [9, с. 299]. В одной из первых глав романа-хроники престарелый протопоп Савелий начинает читать своей дневник — «демикатоновую книгу». Перед его глазами проходят годы его служения на своем приходе. В начале книги — ревностная проповедь молодого священника в день рукоположения. Далее — попытки борьбы с расколом в своем селе, горькая правда в глаза начальству, как церковному, так и светскому, о бедственном положении духовенства. Горение молодого настоятеля неоднократно пресекается начальством, и чем более Туберозов ищет правды — тем жестче реакция властей. В конце концов, ревностный священник «отрешен от благочиния», «обмелел», закурил трубку и стал проводить время в картежной игре, превращаясь в священника-обывателя. Последняя запись в его дневнике говорит о внезапном духовном прозрении: «Я допустил себе постыдную мелочность с тростями <…> и целая прошедшая жизнь моя опрокинулась как решето и покрыла меня. Сижу под этим решетом как ощипанный грач, которого злые ребята припасли, чтоб над ним потешиться. <…> меня смущало, что у меня и у Захарии одинаковые трости и почти такая же подарена Ахилле. Боже! на то ли я был некогда годен, чтобы за тросточку обижаться <…>? Нет, не такой я был, не пустяки подобные меня влекли, а занят я был мыслью высокою, чтоб, усовершив себя в земной юдоли, увидеть невечерний свет и возвратить с процентами врученный мне от Господа талант» [9, с.114, 115]. Так сокрушался отец Савелий, когда увидел свою гордость в том, что был уравнен случайным дарителем сувенирных тростей со своими подчиненными — отцом Захарией и дьяконом Ахиллой. Это было его первым покаянным действием. Время охлаждения Савелия Туберозова закончилось. После откровенного разговора с предводителем дворянства Тугановым об упадке веры в России священник принимает твердое решение изменить свою жизнь: «У Туберозова была большая решимость на дело, о котором долго думал, на которое давно порывался и о котором никому не говорил» [9, с.227]. Затем он отказывается от пристрастия к табаку, отдав «чубуки с трубками» цыганке.
Переломный момент в жизни протопопа наступает во время сильнейшей бури, когда на его глазах ломается пополам вековой дуб, и в его кроне погибает прятавшийся там от грозы ворон. Зрелище так поражает отца Савелия, что в нем просыпается «жажда истины» и он решается на свою Голгофу: «Ночь, последовавшая за этим вечером в доме Савелия, напоминала ту, когда мы видели старика за его журналом <…> На столе <…> лежал <…> листок, и на этом листке он как бисером <…> нанизывал следующие отрывочные заметки: „Боже, суд Твой Цареви даждь и правду Твою сыну Цареву“» [9, с.253]. Это было его «моление на камне». А на следующее утро, после совершения Божественной литургии, был совершен подвиг самоотречения. Была произнесена обличительная проповедь, «которую хотел сказать и сказал на другой день Савелий пред всеми собранными им во храме чиновниками, закончив таким сказанием не только свою проповедь, но и все свое служение церкви» [9, с.254].
После этого следует запрещение священника в служении и ссылка в монастырь, «на покаяние». При этом к покаянию его принуждает не столько владыка, сколько оскорбленная светская власть. Епископ «секретно преподает» опальному священнику «повиниться» перед губернатором. «Не знаю, говорит, за собой вины, а потому не имею в чем извиняться» [9, с. 261]. Если властям достаточно было формального покаяния от провинившегося, то отец Савелий не поддается на уговоры сочувствующего друга, не может и не желает поступать против совести: «Не могу, Николай, не могу! Прощение не потеха» [9, с.287]. В такой позиции священника очевидно его хождение пред очами Божиими. Он не может лицемерить. Находчивый карлик выпрашивает у церковного начальства приказание для бывшего протопопа. Он должен повиниться «за послушание». Во время последней предсмертной исповеди Савелий прощает всех личных врагов, но не может простить врагов Церкви. И лишь после усиленной мольбы исповедовавшего его отца Захарии о безусловном прощении всех «прошептал: „Благо мне, яко смирил мя Еси“ и вслед за тем неожиданно твердым голосом договорил: «По суду любящих имя Твое просвети невежд и прости слепому и развращенному роду его жестокосердие»» [9, с.302]. С этим отец Савелий переходит в духовный мир. В упорном отказе Туберозова покаяться в угоду начальству плодомасовский слуга заподозрил гордость: «Ну-с, государь мой, гордый отец протопоп, не желали вы сдаваться на просьбу, так теперь довели себя до того, <…> что вам властию повелевают извиниться» [9, с.288].
Святые отцы определяют гордость как тяжкую и трудноискоренимую страсть. «Бог ничего так не отвращается, как гордости» — говорит святитель Иоанн Златоуст [10]. А святитель Игнатий Брянчанинов, подразделяя все страсти на восемь частей, ставит гордость на высшее место [11, c. 191]. Вопрос о гордости в произведениях Лескова не является случайным. Писатель изучал не только обрядовую сторону православия, но и глубоко вникал в аскетическое наследие отцов Церкви, и вопрос о гордости, как о греховной страсти неоднократно вырисовывался Лесковым в ее богословском осмыслении.
Существует мнение, что некоторые произведения Н.С. Лескова были написаны под влиянием святителя Игнатия Брянчанинова, труды которого были переизданы в 1886 году, и в их подготовке принимал участие Лесков [12, с.217]. По мнению кандидата филологических наук Н.А. Непомнящих, к таким произведениям относится повесть «Скоморох Памфалон». В повести «Инженеры-бессребренники», написанной в 1887 году, святитель Игнатий является одной из ключевых фигур. Cоздание этого произведения последовало сразу после написания «Скомороха Памфалона». Эти два произведения близки не только по времени создания, но и по сюжету. Как и святитель Игнатий, Памфалон просит освободить его от службы, так как не видит возможности спасения в миру. Оба происходят из знатного рода. В «Инженерах-бессребренниках» вторая глава полностью посвящена разговору двух друзей Брянчанинова и Чихачева, главной темой которого является проблема гордости, как духовного зла: «Самое главное в нашем положении теперь то, – внушал он Чихачеву, – чтобы сберечь себя от гордости…» [13, с.138]. Возможно, что именно под воздействием творений святителя Игнатия, мысль о необходимости «беречь себя от гордости» у Лескова проходит основным мотивом в произведениях конца 1880-ых годов и отразилась на всем его личном духовном мировоззрении. Важность этой мысли подтверждает его переписка с некоторыми лицами.
Вот как в письме от 5 декабря 1888 года Лесков отзывается на упоминание о гордости П.В. Засодимским: «Зачем еще: „Я имею право гордиться?“ Это что за глупость? Какое это может быть «право гордиться»? Вот тебе и христианство, и гуманность, и Лев Толстой! <…> бедный старик!» [14, с. 403]. В отзыве на стихотворение Фофанова, посвященное Л.Н. Толстому, Лесков обращает внимание на слово «горжусь» ( «слежу за гением твоим, горжусь его полетом смелым»): «Стихотворение это прекрасно. Но в нем есть одно ужасное слово, которое не совсем идет к тону и противно тому настроению, которого должна держаться муза поэта-христианина, в истинном, а не приходском значении этого слова. Это слово „горжусь“… <…>» (письмо Илье Репину от 22 января 1889 года) [14, с. 413].
Покаяние без смирения невозможно
Как известно, святые отцы указывают, что покаяние без смирения невозможно. А смирение, это та добродетель, которой врачуется гордость. Гордость – это страсть, противоположная смирению. Гордый человек не способен покаяться, так как не видит своей духовной болезни. Смиренный же человек видит себя грешнее всех. Эта святоотеческая мысль отражается почти во всех произведениях Лескова, написанных в период с 1886 по 1887 год. Их главные герои — это самые простые люди, ни чем не выделяющиеся из толпы, называющие себя «обычными грешниками». Для них чужды тщеславие и гордость, но сокрушение о своих грехах для них является естественным состоянием. Таковы произведения «Скоморох Памфалон» и «Повесть о богоугодном дровоколе». Оба произведения основаны на Прологе и сходны по своему сюжету, где мнимый праведник ищет праведника истинного и находит его в самом неожиданном месте и в противоречивом образе. В первом случае «праведный» столпник противопоставляется скомороху, во втором – епископ противопоставляется ничего не значащему дровоколу. Столпник Ермий, как и епископ Кипрский, получают повеление от Бога найти праведника, который своей жизнью угодил Богу. Богоугодность главных героев обоих произведений заложена в их названии: «Скоморох Памфалон» имел первоначальное название «Боголюбезный скоморох», которое не было пропущено цензурой и впоследствии заменено автором [15, с.377-378].
В «Богоугодном дровоколе» дана оценка епископу, как весьма благочестивому:» <…> человек <…> очень добрый, участливый и чистосердечный. <…> Епископ — разве это не первое лицо во всем духовенстве и разве кроме него есть кто-нибудь другой, кто лучше его знал, как надо умолить Бога <…>» [35, с.98]. В «Скоморохе Памфалоне» столпник Ермий, тридцать лет проведший в телесных подвигах, по внешним делам своим представлен как праведник, но при этом его внутренний монолог подчеркивает его самопревозношение: «Он размышлял о том: как за тридцать лет зло в свете должно было умножиться и как <…> теперь наверно иссякла уже в людях истинная добродетель и осталась одна форма без содержания. <…> через это отчаяние он унижал и план и цель творения и себя одного почитал совершеннейшим» [16, с.117].
Именно от такого самомнения предостерегает святитель Иоанн Златоуст: «Праведник должен бояться гордости больше, нежели грешник <…>, потому что грешник по необходимости имеет смиренную совесть, а праведник может гордиться своими добрыми делами» [10]. Личности скомороха и нищего дровокола не вяжутся с представлениями о праведности у Ермия и у епископа. Они не могут понять, чем такие ничтожные люди могли заслужить милость у Бога. Столпник размышляет: «Это невозможно, чтобы человек, для свидания с которым я снят с моего камня и выведен из пустыни, был скоморох? Какие такие добродетели, достойные вечной жизни, можно заимствовать у комедианта, у лицедея, у фокусника, который кривляется на площадях и потешает гуляк в домах, где пьют вино и предаются беспутствам» [16, с.125]. Подобно ему рассуждает и епископ: «Удивительно, чтобы еле двигающийся под вязанкою дров мужик был всех лучше для вознесения Богу молитвы об общественном бедствии» [16, с.99]. На попытки Ермия выяснить у Памфалона, в чем его праведность, последний отвечает: «Эх, отец, отец! Если бы ты знал, как смешно мне тебя слушать. <…> О каком богоугодии я могу думать при такой жизни!» [16, с. 129]; «Кругом я грязен и скверен», «я большой грешник и бражник <…> [16, с.138]. Подобным образом отвечает епископу и дровокол: «Я самый обыкновенный грешник и провожу жизнь мою в ежедневной житейской суете и хлопотах… даже думать о богоугодных делах мне некогда…» [16, с. 101].
Ответы этих ничем не выдающихся людей пронизаны искренней уверенностью в своей греховности и глубоким сокрушением о своих немощах. Однако, из слов Памфалона необходимо извлечь полезную и важную мысль — он не отчаивается в своей жизни и возлагает упование о своем спасении на милосердие Божие: «Нет, я не отчаянный <…>. Я верю, что я сам из себя ничего хорошего сделать не сумею, а если Создавший меня Сам что-нибудь из меня со временем сделает, ну так это Его дело, Он всех удивить может» [16, с.130]. Напротив, Ермий и епископ, мнящие о себе, как о праведниках, не получают милости от Бога. Молитва епископа о ниспослании дождя остается тщетной, а душа Ермия, возносясь на небо, встречает непреодолимую преграду из слова «самомненье», которую стирает Памфалон одним взмахом своей епанчи. Вопрос о гордости, как о непреодолимой преграде на пути покаяния и о смирении, как о наиболее удобном пути к ее преодолению, в этим двух рассказах с точностью совпадает со святоотеческим учением о спасении души.
Вот как об этом говорит исследователь Н.А. Непомнящих: «Разрешение конфликта между самомнением в лице Ермия и епископа и смирением в лице скомороха и дровокола производится назидательно-аллегорически, в точности иллюстрируя поучение Брянчанинова о „боголюбезной праведности“ в «Аскетической проповеди»: «Такова боголюбезная праведность! Она производится в человеке осенившею его Божественною благодатью, и благоугождает Богу делами богопреданной правды. Богоугодный праведник не престает признавать себя грешником не только по причине своих явных грехов, но и по причине своей естественной правды, находящейся в горестном падении… <…> Преподобный Пимен Великий говорил: „Для меня приятнее человек согрешающий и кающийся, нежели негрешащий и некающийся: первый, признавая себя грешником, имеет мысль благую, а второй, признавая себя праведным, имеет мысль ложную“». Слова поучения почти дословно совпадают с речами лесковских персонажей» [12, с.220].
«Самомнение — гордость — падение — покаяние»
Тема нравственного падения человека и его возрождения по описанному выше богословскому принципу «самомнение — гордость — падение — покаяние» наглядно представлена в рассказе Н.С. Лескова «Павлин». Главный герой этого произведения имеет имя Павлин. Имя само по себе редкое, и название рассказа ассоциируется у читателя в первую очередь с птицей, имеющей красивый, царственный вид. Аналогия главного героя с павлином заложена в описании автором внешнего вида и свойств его характера. Павлин Певунов был швейцаром в доходном доме богатой родственницы рассказчика этой истории. «Павлин <…> был красавец <…> мужчина высокий, плотный и очень стройный; <…> Можно держать пари, что ни в одной из столиц Европы не было и нет швейцара импозантнее Павлина» [17, с.14]. Далее, в описании Павлина перечисляются элементы одежды на столько пестрые, что как нельзя точнее напоминают его «павлинью» внешность:» <…> этот пестрый убор шел ему чрезвычайно. В расшитом галунами длинном ярко-синем сюртуке <…> и с блестящею вызолоченною булавою в руках, Павлин был настоящий павлин, и при том самый нарядный павлин <…>» [17, с. 15]. О самолюбовании уникального лакея говорит дальнейшее описание его характера: «Он был очень горд и важен не только с вида, но и по характеру — самоуважающему, твердому и даже надменному» [17, с. 15, 16]. Описание его комнаты-клетки, «где не был никто из посторонних людей», открывает нам владельца, как человека крайне аккуратного и дисциплинированного, а свидетельство о том, что он» <…> чрезвычайно бережлив, умерен в пище и не пьет ничего, кроме воды и молока <…>»[17, с. 16, 17] представляется как заявка на некую аскетичность. Все эти качества, безусловно, являются положительными и не могут являться поводом для осуждения, но, будучи выставляемы на показ и подчеркивая свое превосходство над окружающими, превращаются в надутое самодовольство. А следующая фраза автора довершает картину фарисейства главного героя: «Павлин действительно был заносчив и горд и не хотел допускать ни малейшего сближения с собою ни кого из служащих людей» [17, с. 17]. Вспомним, что «фарисей» в переводе с древнееврейского означает «отделенный» [18]. Герой рассказа имеет железный характер. Он ревностно и педантично выполняет свои служебные обязанности.
Филолог Л. М. Петрова пишет: «Павлин не только самоотверженно исполняет свой служебный долг, он имеет своё credo, свою цель, согласно которым: «…всякий человек должен прежде всего свой долг исполнять… всякий о своей беде много сам виноват, а потворство к тому людей еще более располагает… надо помогать ему на ноги становиться и о себе вдаль основательно думать, чтобы мог от немилостивых людей сам себя оберегать»» [19, с.171]. Это часто повторяющееся «сам» невольно воспринимается как самодовольное «я». По мысли Л.М. Петровой, все добродетели и подвиги, которые действительно имели место в нелегкой судьбе Павлина, были предприняты им не ради любви и добра к ближним, но ради некоего, созданного им самим принципа жизни: «Всякое достижение добра» героя: выкуп себя и родственников, помощь им по хозяйству, «окна у жильцов», выставляемые «для блага человечеств», «себя не погубил» (хотя «многие женщины…к этому виды подавали»), разработанный в соответствии со своими взглядами план воспитания сиротки Любы – всё это «подвижничество» было следствием его credo, понимаемое автором как «духовная прелесть».
В соответствии с православным вероучением, это форма лести самому себе, самообман, гордыня. Самообольщение рождает такое возвышение человека, за которым стоит не просто грех гордыни, но почти обожение себя» [19, с.171]. Никакая болезнь, не подвергающаяся лечению, в том числе и духовная, не проходит сама собой, но усугубляется. С возрастанием маленькой Любы и превращением ее в красивую девушку пятидесятилетний Павлин был «жестоко влюблен» в свою воспитанницу. Ослепленный страстью, он не замечает ловко и безжалостно расставленных перед ним сетей. Женитьба на шестнадцатилетней красавице ломает всю его жизнь. Юная девушка, будучи сама обманута своей жестокой покровительницей и ее беспутным сыном Додей, совершает грехопадение. Вместо ожидаемого рая в душу Павлина приходит опустошение, а вместе с ним — прозрение. В его покаянном монологе ощущается глубочайшая скорбь, сокрушение, но вместе с тем чувствуется и возрождение человека к новой жизни: «Павлин <…> страдал мучительно, но торжественно и благоговейно: он не пал духом, не плакался и не рыдал <…>. Напротив, он созерцал, откуда ниспал и куда еще глубже того мог погрузиться и низвесть с собою другое существо, — он принял все над ним разразившееся как вполне заслуженный им удар мучительной лозы, и заговорил в самом неожиданном <…> тоне самоосуждения. <…> Я насильник: я вижу, что я пал, как гора, и рассыпался…». И далее сам свидетельствует о своем перерождении: «Вы полагаете, что я тот, который был вчера и третьего дня? Нет-с: ныне в день скорби Господь мне явил Свою милость: я внял, что я прах, что я весь образован из брения и что все вожди страстей могут орать и сеять на хребте моем: страсть, гордость, нечистота, и сластолюбие, и ревность, и… и… склонность к убийству…» [17, с.88].
Перед Павлином внезапно открылась вся его прежняя жизнь, со всеми его принципами и пустыми достижениями, его credo превратилось в прах. В этом покаянии раскрылась вся сила и глубина его души. С этого момента Павлин перестает жить для себя и посвящает свою жизнь спасению души другого человека: «Умру-с и жив буду. Надо спасаться.»[17, с.88]. Павлин «умирает» и вместо него «рождается» мещанин Спиридон Андросов. Он добровольно берет свой тяжкий крест самоотречения и под этим именем сопровождает свою Любу в ссылку вслед за ее возлюбленным Додей. С этого момента Павлин становится ее «ангелом хранителем», наставляя и поддерживая бедную девушку в ее «жесточайших страданиях», которые она терпела от своего нового супруга. После скорой и бесславной смерти Доди Павлин и Люба всю оставшуюся жизнь посвящают служению Богу, приняв на себя иноческий образ. Плодом самоотверженной христианской любви Павлина явилась схимница, которая была «милая, чистая сердцем старица с выплаканными глазами, в орбиты которых у нее для благообразия были вставлены круглые перламутровые образки, была настоящий ангел кротости и милосердия» [17, с. 109].
Таким образом, на примере своего главного героя Н.С. Лесков представляет читателю этапы духовного развития христианина: самонадеянность, тщеславие, гордость, приводящая к грехопадению, покаяние с глубочайшим смирением и самоотречением, приводящее к святости. Жизнь Павлина можно назвать «духовным странничеством», конечным пунктом которого является обретение истинных христианских ценностей и главного смысла жизни — христианской любви.
О «духовном странничестве» в произведениях Лескова
«Духовным странничеством» можно назвать описание жизни еще одного героя произведения Лескова. Мотивы такого странничества заложены в его названии – «Очарованный странник». Автор определил жанр своего произведения как рассказ-быль, затем — повесть. Среди современных литературоведов встречается мнение, что по жанру это повесть-поэма. В основе сюжета произведения – описание жизненного пути человека, или, как называет его сам герой, «обширной протекшей жизненности», поиска своего места среди людей, своего призвания и постижение высшего смысла бытия.
История жизни главного героя, Ивана Флягина — это пример того, как человек, вполне довольный своим земным положением, не помышляет о своем спасении, но, наделенный от Бога богатырской силой, красотой, смелостью, смекалкой наслаждается земными благами настолько, насколько они доступны ему в силу его социального положения. Это пример того, как Господь ведет человека к покаянию через огонь искушений, на протяжении всей жизни, шаг за шагом возводя человека через страдания от земного брения на высоту духовного совершенства. В начале повести, будучи отроком, форейтор Иван Флягин из озорства случайно засекает насмерть одного монаха. Однако сердце одиннадцатилетнего мальчика не сокрушается о содеянном страшном преступлении. Это видно из дерзкого ответа, который он дает пришедшему к нему в сонном видении убиенному монаху: «Чего тебе от меня надо? Пошел прочь!» [13, с.231]. Не верит Иван, что он «сын обещанный» и предопределен на служение Богу и после второго видения:» <…> ладно, надо тебе что-нибудь каркать, когда я тебя убил <…>»[13, с.232].
Не желая добровольно подчиниться Божией воли, отрок становится на долгий путь странствий по земле, претерпевая невероятные лишения и тяготы. «Мне надо было бы <…> в монастырь проситься, а я сам, не зная зачем <…> первое самое призвание опроверг, и от того пошел от одной стражбы к другой» [13, с.234]. Такое странничество можно назвать земным мытарством души. Насколько буйная и противоречивая душа у Флягина, настолько суровы и жестоки испытания, выпавшие на его долю. Не получив серьезного наказания за убийство монаха, он жестоко наказан за суд над барской кошкой. Спасенный цыганом от самоубийства, пристает к разбойникам, бьется на кнутах с «татарином», попадает в десятилетний плен. Во всех немыслимых изломах своей судьбы Иван ставится перед выбором добра и зла: он уходит от разбойников, добровольно идет на войну. Хотя правильность выбора не всегда бесспорна (убийство Груши), в этом определяется суровость пути, которым Господь ведет его к покаянию. Иван Северьянович постепенно, страдая сам, учится сострадать другим. Смирение перед ближними проявляется в готовности пожертвовать собою ради счастья других. Избив однажды офицера, Флягин кается перед ним вполне буквально:» <…> для облегчения моей совести, как вам угодно, а извольте сколько-нибудь раз сами меня ударить, — и взял обе щеки перед ним надул» [13, с.247]. Спасаясь от «губителя-беса», уходит на войну под чужим именем, стремится искупить свою вину за убийство Груши кровью: «Ой, помилуй Бог, говорит (командир), — какой ты, Петр Сердюков, молодец! А я отвечаю: Я, ваше высокоблагородие, не молодец, а большой грешник, и меня ни земля, ни вода принимать не хочет» [13, с.325]. Награжденный Георгиевским Крестом и произведенный в офицеры, Иван Северьянович не приживается в приказной палате и идет служить комедиантом, где терпит побои и унижение от своих товарищей. От залихватской удали юного форейтора, через «благодушное терпение находящих скорбей», приходит Иван Флягин к тихой монастырской жизни, которую он «очень полюбил», и удостоился от Бога дара пророчества.
Покаяние приходит от Слова Божия
Одним из ярчайших примеров покаяния под воздействием слова Божия является рассказ «Зверь». Это произведение Лескова относится к циклу святочных рассказов. Характеристику сюжета этого рассказа коротко и точно дает известный литературный критик А.А. Новикова: «Рассказу „Зверь“ Лесков предпослал эпиграф:» «И звери внимаху святое слово. Житие старца Серафима». В таком контексте углубляется смысл рассказа: герой, признанный в святочном сюжете диким зверем, еще более безжалостным, чем медведь, обретает человеческое лицо под воздействием святого слова «рождественской проповеди»» [20, с.70]. Главный герой рассказа не называется по имени. Он известен как дядя автора. Семен Николаевич, будучи пятилетним мальчиком, пережил описываемые события и рассказывает о чудесном преображении под воздействием рождественской проповеди жестокого человека в «кроткого агнца». Знакомство читателя с дядей начинается с описания его дома, и здесь чаще всего повторяются слова «ужасный» и «страшный». А дальнейшая характеристика дяди усугубляет сходство его характера со звериным: «Он был очень богат, стар и жесток. В характере у него преобладала злобность и неумолимость <…>. Там никому никакая вина не прощалась. Это было правило, которое никогда не изменялось, не только для человека, но даже и для зверя или какого-нибудь мелкого животного. Дядя не хотел знать милосердия и не любил его, ибо почитал его за слабость. Неуклонная строгость казалась ему выше всякого снисхождения» [21, с. 26, 27], а всех провинившихся в доме ждали «смертоносные наказания». В характеристике медведя, напротив, применяются выражения, подходящие описанию человека. Он имел «довольно стройное сложение», был «красив и умен», «умел бить в барабан, маршировал с большою палкою <…> в виде ружья, <…> с большим удовольствием таскал с мужиками самые тяжелые кули на мельницу <…>. Медведь <…> взял свою шляпу <…> и всю дорогу до ямы шел с Храпоном обнявшись, точно два друга» [21, с. 30, 31]. Зная о дружбе своего крепостного Храпоши с медведем Сганарелем, жестокий дядя поручает именно ему застрелить медведя на предстоящей травле. Детям было жалко и зверя, и Храпошу, и горячая детская молитва за медведя не осталась тщетной. В результате невероятных событий, последовавших в ходе охоты на глазах у всех обитателей дома и собравшихся по случаю Рождества гостей, Храпон «упускает» медведя, за что его ждет неминуемая казнь от разгневанного помещика. В рождественское утро среди гостей, собравшихся в зале, царит гнетущая атмосфера ожидания надвигающейся трагической развязки, которая должна последовать в отношении крепостного человека, пожертвовавшего собою ради жизни зверя. Нарушая напряженную тишину, начинается тихая проповедь священника по случаю Рождества: «Он заговорил о даре, который <…> всякий бедняк может поднесть к яслям „рожденного Отроча“ <…>. Дар наш — сердце наше, исправленное по его учению. Старик говорил о любви, о прощенье, о долге каждого утешить друга и недруга «во имя Христово»… И думается мне, слово его было убедительно…»[21, с.42]. И здесь совершается рождественское чудо — перевоплощение зверя в человека: «Вдруг что-то упало… Это была дядина палка…<…> он сидел, склонясь на бок, с опущенною с кресла рукою <…>. Все глаза были устремлены на его лицо. Происходило удивительное: он плакал!» [21, с.42]. Делая акцент на жанровой особенности данного рассказа — святочный, А.А. Новикова говорит о значимости сказанной здесь рождественской проповеди: «Такое необычное качество святочной литературы, как плач и смех Рождества, восходит именно к Евангельским событиям. Это явление призвано смягчить каменные сердца, растопить ледяные души, воззвать к покаянию, милосердию, теплоте и благодатным слезам. Покаянием и слезами очищается душа человеческая» [20, с.76]. Вот как об этом говорил профессор В.Н. Лосский: «Душа, не движимая покаянием, чужда благодати: это — остановка на пути к восхождению, «нечувствие окаменелого сердца», признак духовной смерти. Покаяние, по учению святого Иоанна Лествичника, есть как бы возобновленное крещение, но «источник слез» после крещения – больше крещения», «дар слез» — верный признак того, что сердце растопилось божественной любовью. «Мы не будем обвинены, — говорит тот же святой, — при исходе души нашей за то, что не творили чудес, что не богословствовали, что не достигли видения, но, без сомнения, дадим ответ Богу за то, что не плакали о грехах своих». Эти благодатные слезы — завершение покаяния — одновременно являются началом бесконечной радости (антиномия блаженств, возвещенных в Евангелии, — «Блаженны плачущие, яко тии утешатся»)» [22, с.154-155]. Ферапонт был не только прощен, но и отпущен на волю. Будучи в преклонных летах, дядя, тем не менее, сумел принести благодатные плоды своего чудесного преображения:» <…> в московских норах и трущобах есть люди, которые помнят белоголового длинного старика, который словно чудом умел узнавать, где есть истинное горе, и умел поспевать туда сам или посылал не с пустыми руками своего доброго пучеглазого слугу» [21, с.43-44].
Тема покаяния в других произведениях Н.С. Лескова
Покаянная тема в произведениях Н.С. Лескова звучит, в том числе, в произведениях, не имеющих, на первый взгляд, прямой религиозной направленности. К таким произведениям можно отнести антинигилистический роман «Некуда». Учитывая общую либеральную направленность политических кругов в России того периода, как отмечалось ранее, роман вызвал крайнее неприятие в обществе. Определяя общую фабулу романа, исследователь О. В. Поварова говорит, что на его страницах показано «состояние русского общества переломной эпохи середины XIX века: борьбу социальных идей, появление нового типа людей, в частности, типа „новой женщины“, смену настроений интеллигенции и разночинцев» [23, с. 83].
В этом романе Лесков стремится показать абсурдность революционной идеи в России, создание коммун и революционного подполья — авантюрным, а движение России по этому пути — движение в «никуда». Помимо политической несостоятельности русского революционного движения Лесков предрекает ему гибель в силу его бездуховности. Это — попытка построить рай на земле без Бога. Не случайно руководитель общины Белоярцев не переносит присутствие православной иконы: «Видно, мутит тебя лик-то Спасов, — не стерпишь» — говорит ему старушка [24, с.506].
На примере двух женских образов — Лизы Бахаревой и Женни Гловацкой Лесков показывает два возможных пути самореализации себя женщины в обществе. Один путь — традиционный, где женщина, это жена, мать, хранительница семейного очага, и второй путь — революционный, где женщина «развивается» вопреки своему божественному предназначению, эмансипируется, требует призрачного равенства с мужчиной, в результате — обезличивается, погибает духовно и телесно. В начале романа обе девушки, окончившие институт и возвращающиеся домой, показаны автором в равных условиях. Обе юны, красивы и умны. В исходной точке повествования они получают духовное наставление от своей родственницы — игуменьи монастыря: «Первое дело не лгать. Людям ложь вредна, а себе еще вреднее <…>. Уверят себя в существовании несуществующего, да и пойдут чудеса творить <…>. Брыкаться не надо. <…> только ноги себе же отобьешь. <…>» [24, с.17, 18]. Старая монахиня предостерегает девушек от самообольщения и гордости, но каждая из девушек воспринимает ее слова по-разному.
Женни только слушает и лишь однажды смиренно признается: «Я не знаю, как надо жить» [24, с.17]. «У Лизы раздувались ноздри, и она беспрерывно откидывала за уши постоянно разбегавшиеся кудри» [24, с. 17]. Лиза все время противоречит духовной наставнице: «Вы отстали от современного образа мыслей» [24, с. 19], — дерзко заявляет она. С этого знакового момента судьба двух подруг развивается по двум противоположным направлениям. Женни Гловацкая выходит замуж, у нее рождаются дети, муж преуспевает на государственной службе. Женни окружена друзьями, уютом и теплом. Она обретает семейное счастье, вопреки пророчествам подруги Лизы о «семейном деспотизме». Описание дальнейшего образа жизни Лизы Бахаревой представляется в мрачных тонах. Цветущая Женни встречается с «похудевшей и постаревшей» чахоточной Лизой. Ее жизнь — одиночество и страдания. Так называемый «Дом Согласия», где живет Бахарева со своими единомышленниками-революционерами, рисуется автором как серый, холодный и пустой: «Холодно в доме <…> какая-то пустота, тоска…»[24, с.507]. Дом же своей бывшей подруги сама Лиза называет «раем». Спустя много лет встреча двух подруг контрастно представляет два типа мировосприятия — смирение, и бунт. Их плоды противоположны: цветущая и мирная Женни, и разбитая, мятущаяся Лиза. Старая няня Бахаревой «расплакалась и Христом-Богом молила Лизу не возвращаться» в коммуну [24, с.513]. Но, к несчастью, для Лизы это оказалось невозможным. «Немного нужно было иметь проницательности, чтобы, глядя на нее теперь, сразу видеть, что она во многом обидно разочарована и ведет свою странную жизнь только потому, что твердо решилась не отставать от своих намерений — до последней возможности содействовать попытке избавиться от семейного деспотизма. Лиза, давно отбившаяся от семьи, и от прежнего общества, сделала из себя многое для практики того социального учения, в котором она искала исхода из лабиринта сложных жизненных условий, так или иначе спутавших ее вольную натуру с первого шага в свет и сделавших для нее эту жизнь невыносимою» [24, с. 493-494]. Гордость, посеянная в институте модным тогда вольнодумством, не уврачеванная в юности покаянием, пустила глубокие корни. «Горе гордым, ибо участь их с дьяволом-отступником» (прп. авва Исаия) [25]. Но на примере Лизы и Женни наглядно видно, как легок может быть переход от тоски — к радости, от мрака — к свету, от смерти — к жизни. Этот путь — один шаг: покаяние, и здесь выбор за человеком. В завершении романа писатель представляет ужасающую картину смерти нераскаявшейся Лизы. На уговоры няни Обрамовны покаяться и причаститься она просит привезти вместо священника свою соратницу Бертольди. Прибывший по настоянию няни священник так же не имеет успеха. Проклятая отцом, разбитая болезнью, одинокая и несчастная девушка умирает в жестоких страданиях.
Небольшой рассказ Н.С. Лескова «Чертогон» полностью посвящен, если можно так выразиться, покаянию. Здесь герой Семен Николаевич повествует о некоем ритуале «изгнания беса» из человека, свидетелем которого ему довелось быть, будучи юношей. Прототипом главного героя, по общему мнению историков, послужил дядя писателя, крупный московский купец-миллионер, Алексей Иванович Хлудов (1818–1882). В рассказе он именуется Илья Федосеевич. В начале рассказа пресыщенный купец катается в коляске по городу, и, страдая от уныния и скуки, со словами «совсем жисти нет» направляет экипаж к ресторану «Яр». По его требованию к назначенному времени из ресторана выгоняются все посетители, делается заказ на сто персон по всему меню, не глядя. В ресторан по приказу дяди собираются гости, «все почтенные такие, старцы» [26, с. 463], двери запираются, и начинается совершенно дикая и немыслимая оргия, описание которой не может не вызвать ничего, кроме отвращения. Все заканчивается только к утру: «Да; сразу вдруг все стихло… все кончено. <…> Чувствовалось, что как без этого „жисти не было“, так зато теперь довольно. <…> вальпургиева ночь прошла и «жисть» опять начиналась» [26, с. 466]. Затем Илья Федосеевич приступает к обряду очищения и начинает его в бане:» <…> тело его трепетало под брызгами пущенного на него холодного дождя, и ревел он сдержанным ревем медведя, вырывающего из себя больничку» [26, с. 468]. Как иронично выражается писатель: «Внешность сосуда была очищена, но внутри еще ходила глубокая скверна и искала своего очищения» [26, с.469]. Очищать внутренность дядя едет в церковь, «ко Всепетой». То, как встречают Илью Федосеевича монахини в церкви, граничит с кощунством, и здесь видна явная параллель его встречи лакеями у ресторана: «Пожалуйте, — говорят инокини, — пожалуйте, от кого же Всепетой, как не от вас, и покаянье принять, — всегда ее обители благодетели» [26, с.469]. Далее Илья Федосеевич требует сумрака, и чтобы «без людей». Выполнили и это. Дядя каялся коленопреклоненно, пав лицом на пол, в полном одиночестве. Невольный свидетель с двумя инокинями наблюдает из-за ширмы. Как видно по реакции инокинь это действо для них было не в первой: «Смотрите, какое борение! <…> видите, он духом к небу горит, а ножками-то еще к аду перебирает». И снова сарказм писателя: «Вижу, что и действительно это дядя ножками вчерашнего трепака доплясывает, но точно ли он духом теперь к небу горит?» И вскоре дядя «тихим, благочестивым голосом» объявил, что теперь ему «прощено! Прямо с самого сверху, из-под кумпола, разверстой десницей сжало мне все власы вкупе и прямо на ноги поставило…»[26, с. 471]. Такое признание приводит присутствующих в благоговейный трепет.
Исследователь творчества Н.С. Лескова В. П. Бойко относит жанр этого рассказа к фельетону [27, с.48]. Действительно, писатель в язвительной форме обозначает некоторые проблемы, которые он и раньше поднимал на протяжении всей своей литературной деятельности и сводит их воедино в данном рассказе. Здесь Николай Семенович в который раз обличает и лицемерие церковнослужителей, и немыслимое, безумное распутство народившихся в России миллионеров, и буквально языческое отношение к покаянию среди определенной части русских людей, видимо, имевшее место в той или иной форме. Говоря о том, что «чертогон» можно увидеть «только в одной Москве», писатель, тем самым, видимо, намекает, что только московским богачам было под силу устроить бесчинства такого масштаба, ибо они и являются первой частью этого ритуала. А такие характеристики Ильи Федосеевича, как «благочестив <…> и у губернатора с митрополитом принят» [26, с. 460] в финале рассказа звучат как насмешка и над гражданской, и над церковной властью. Конечно, в отношении самого ритуала, такое покаяние можно признать только с приставкой «квази». Это наглядный пример применения лукавой присказки «не согрешишь — не покаешься».
В данной статье рассмотрена тема покаяния на примере наиболее ярких, с нашей точки зрения, произведений Н.С. Лескова, и была предпринята попытка проследить значимость и актуальность темы покаяния для писателя в его литературном творчестве. Рассмотреть, даже бегло, все произведения писателя не представляется возможным по причине их огромного количества. Однако, мы постарались выбрать такие примеры, которые наглядно показывают, что тема покаяния отображена в самых разнообразных литературных жанрах, применяемых писателем. Литературный дар писателя позволил ему с удивительной живостью представить читателю самые разнообразные характеры, а его жизненный опыт и знание бытовых тонкостей самых различных социальных слоев народа, примененные при создании своих произведений, не могут оставить равнодушным человека любого сословия и возраста. Живость и выразительность образов, создаваемых писателем, заставляют сопереживать читателя героям произведений. Их покаяние, искреннее, или мнимое, не может оставить равнодушным. Возможно, это побудит читателя к более тесному знакомству с литературным творчеством Н.С. Лескова и его произведения войдут в число любимых книг. А их положительные герои станут яркими и незабываемыми примерами для подражания в деле духовного совершенства.
Е.М. Попов, слушатель богословских курсов
Московской духовной академии
Библиография
[1] Дыханова Б. С.»Запечатленный ангел» и «Очарованный странник» Н. С. Лескова. М., «Художественная литература», 1980 г.
[2] Маркадэ Жан-Клод. Творчество Н. С. Лескова. Романы и хроники, академический проект. Спб., 2006 г.
[3] Александр Михайлович, Великий князь. Книга воспоминаний. М.:»Современник», 1991 г.
[4]Коган П. С. Н.С. Лесков. Характеристика // Лесков Н. С. Избранные произведения. М.; Л.;1934 г.
[5] Волынский А. Л. Н.С. Лесков. Критический очерк. Спб., первая скоропечатная Я. И. Либермана, Фонтанка, дом №86. 1898 г.
[6] Минеева И. Н. Записная книжка Н. С. Лескова с выписками из «Прологов» (опыт текстологического комментария). // Проблемы исторической поэтики, вып. № 13 — 2015 г.
[7]Игнатий (Брянчанинов), святитель. Аскетические опыты. Собрание сочинений. Том 2. — М.: «Ковчег», 2005 г.
[8] Ипатова С. А. Н.С. Лесков и «Откровенные рассказы странника духовному отцу своему»// Пушкинские чтения, вып. № 19 — 2014 г.
[9] Лесков Н. С. Собр. соч. в 12 т. — М.: Правда. 1989 г. Т. 1.
[10] Иоанн Златоуст, святитель. Симфония по творениям свт. Иоанна Златоустого. Гордость (электронный ресурс). https://azbyka.ru.
[11]Игнатий (Брянчанинов), святитель. Аскетические опыты. Собрание сочинений. Том 1. — М.: «Ковчег», 2005 г.
[12] Непомнящих Н. А. Творчество Н. С. Лескова и сочинения И. Брянчанинова: об одном из возможных источников трактовки сюжета «Скомороха Памфалона» и «Повести о богоугодном дровоколе». Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. Вып. № 24. 2013 г.
[13]Лесков Н. С. Собр. соч. в 12 т. — М.: Правда. 1989 г. Т. 2.
[14]Лесков Н. С. Собр. соч. в 11 т. — М.: ГИХЛ. 1956-1958 гг. Т. 11.
[15] Ранчин А. М. К творческой истории легенд Лескова «Повесть о богоугодном дровоколе» и «Скоморох Памфалон» // Неизданный Лесков. Литературное наследство. – М.: Наследие, 1991. – Т. 101, кн. 1. – 654 с.
[16]Лесков Н. С. Собр. соч. в 12 т. — М.: Правда. 1989 г. Т. 10
[17] Лесков Н. С. Некрещеный поп. М.: Издательство Сретенского монастыря. 2013 г.
[18]Никифор (Бажанов), архимандрит. Библейская энциклопедия (электронный ресурс). https://azbyka.ru.
[19] Петрова Л. М. Духовное странничество в системе ценностных координат Лескова (рассказ Павлин). Ученые записки Орловского государственного университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. №3 (66). 2015 г.
[20] Новикова А. А. Эпиграф из «Жития старца Серафима» в сюжете святочного рассказа Н.С. Лескова «Зверь» // Преподобный Серафим Саровский и русская литература — М., 2004 г.
[21] Лесков Н. С. Собр. соч. в 12 т. — М.: Правда. 1989 г. Т. 7.
[22]Лосский В. Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. М., 1991 год.
[23] Поварова О. В. Мотив бегства из семьи в романе Н. С. Лескова «Некуда». Вестник Череповецкого государственного университета. 2005 г.
[24] Лесков Н. С. Собр. соч. в 12 т. — М.: Правда. 1989 г. Т. 4.
[25]Энциклопедия изречений Святых отцов и учителей Церкви по различным вопросам духовной жизни. Часть 23 (электронный ресурс). https://azbyka.ru.
[26] Лесков Н. С. Собр. соч. в 12 т. — М.: Правда. 1989 г. Т. 5.
[27] Бойко В. П. Русское купечество в изображении Н. С. Лескова. Вестник Томского государственного университета. 2016 г. № 406.
Поделиться ссылкой: